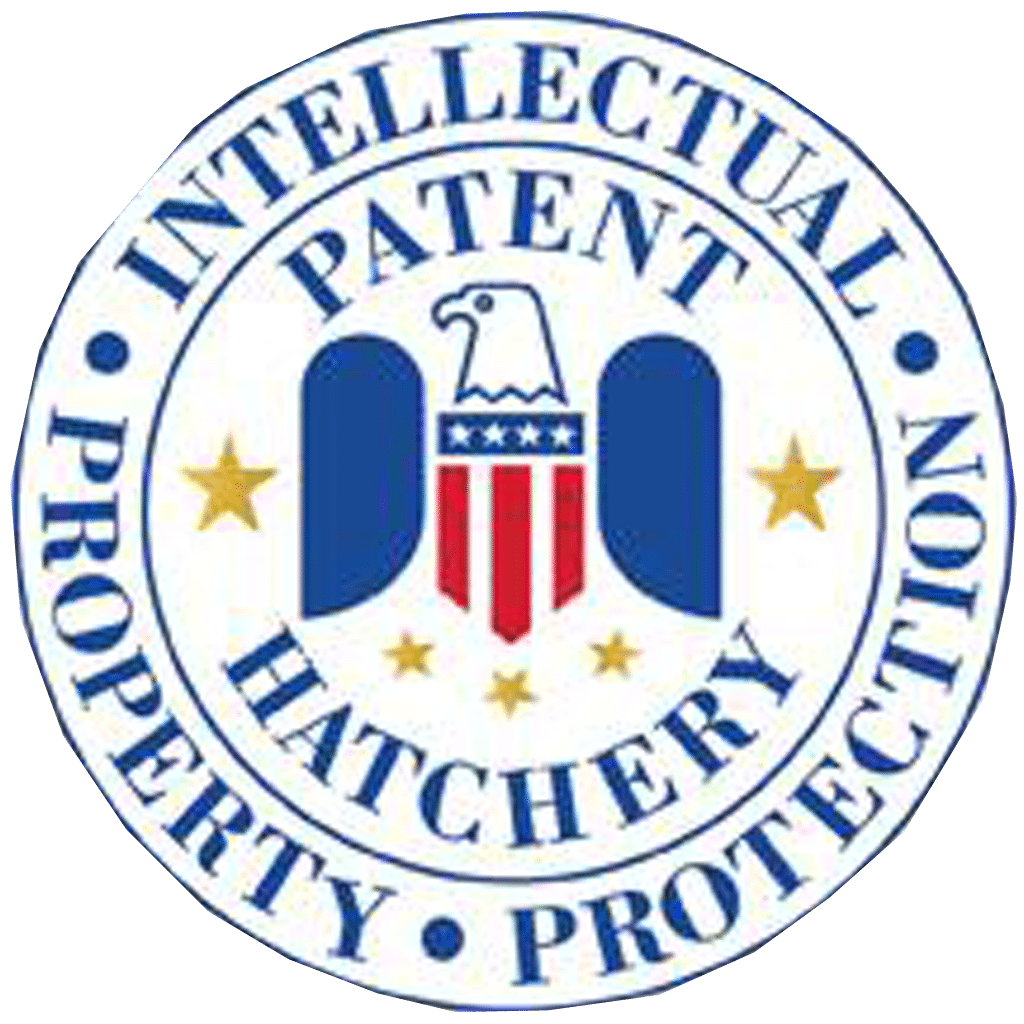В 1961 году метеоролог Эдвард Лоренц, упражняясь в предсказании погоды, обнаружил, что едва заметные изменения в первоначальном состоянии системы могут обернуться масштабными последствиями. Открытие «эффекта бабочки» привело к тому, что через несколько лет Лоренц обнаружил себя в компании людей, которые занимаются изучением хаоса. Формирование облаков, турбулентность морских течений, скачки в популяции животных и растений — «хаотики» выяснили, что определённые закономерности в подобных процессах все-таки есть, и они поддаются математическому описанию. Непосредственным свидетелем того, как теория хаоса становится из маргинального увлечения отдельных учёных самостоятельной дисциплиной, был научный журналист Джеймс Глик. В конце 80-х он написал об этом книгу «Хаос. Создание новой науки» (издательство «Corpus»). В России выходит ее переиздание в переводе Михаила Нахмансона и Екатерины Барашковой. N + 1 предлагает своим читателям ознакомиться с отрывком, который посвящен возвращению в науку понятия самоподобия, фрактальной геометрии и тому, как все это привело к изучению хаоса.
Книга опубликована в рамках издательской программы Политехнического музея и входит в серию «Книги Политеха».

Мысль о самоподобии, о том, что великое может быть вложено в малое, издавна греет человеческую душу — особенно души западных философов. По представлениям Лейбница, капля воды содержит в себе весь блистающий разноцветьем мир, включая и другие капли и живущие в них другие вселенные. «Увидеть мир в песчинке» — призывал Блейк, и некоторые ученые пытались следовать его завету. Первые исследователи семенной жидкости склонны были видеть в каждом сперматозоиде своего рода гомункулуса, то есть крошечного, но уже полностью сформировавшегося человечка.
Однако в качестве научного принципа самоподобие выглядело весьма бледно по довольно простой причине: оно расходилось с реальными фактами. Сперматозоиды вовсе не являются уменьшенной копией человека, будучи гораздо более интересными элементами, а процесс онтогенеза несравненно сложнее тривиального увеличения. Первоначальное представление о самоподобии как организующем принципе происходило из ограниченных знаний человека о масштабах. Как представить чересчур огромное и слишком крошечное, стремительное и замедленное, если не распространить на него уже известное?
Подобные представления бытовали до тех пор, пока человек не вооружился телескопами и микроскопами. Сделав первые открытия, ученые поняли, что каждое изменение масштаба обнаруживает новые феномены и новые типы поведения. Современные специалисты в области физики элементарных частиц не видели этому конца: каждый новый, более мощный ускоритель расширял поле зрения исследователей, делая доступными все более мелкие частицы и более краткие временные промежутки, и каждое такое расширение давало новую информацию.
На первый взгляд, идея постоянства при изменяющихся масштабах малопродуктивна, отчасти потому, что один из основных научных методов — редукционизм — предписывает разбирать предмет исследования на составляющие и изучать мельчайшие частицы. Специалисты, разъединяя объекты, рассматривают их элементы порознь. Намереваясь изучить взаимодействие субатомных частиц, они исследуют две или три, что уже довольно сложно. Однако самоподобие проявляется на гораздо более высоких уровнях сложного, когда речь заходит о том, чтобы посмотреть на целое.
Хотя именно Мандельброт весьма умело воспользовался идеей масштаба в своей геометрии, само возвращение этой идеи в науку в 1960–1970-х годах стало интеллектуальным течением, проявившимся одновременно во многих областях. Намек на самоподобие содержался в работе Лоренца: ученый интуитивно улавливал его в изяществе графиков, отображавших поведение системы уравнений. Он ощущал присутствие некой структуры, но в 1963 году увидеть ее не мог из-за несовершенства компьютеров. «Масштабирование» стало движением в физической науке, которое вело — пожалуй, даже более целенаправленно, нежели исследования Мандельброта, — к дисциплине, известной под названием «хаос». Даже в весьма отдаленных сферах ученые начинали думать на языке теорий, использовавших иерархии масштабов. Так, например, произошло в эволюционной биологии, развитие которой подводило к убеждению, что целостная теория должна описывать закономерности развития сразу и в генах, и в единичных организмах, и в видах, и в родах.
Можно, пожалуй, назвать парадоксом то, что феномены масштаба оценили по достоинству благодаря появлению в арсенале исследователей технических средств, ранее дискредитировавших идеи о самоподобии. Непостижимым образом к исходу XX века необычайно маленькие и невообразимо большие явления стали вполне обыденными, появились снимки огромных галактик и мельчайших атомов, отпала нужда по примеру Лейбница лишь мысленно представлять уголки Вселенной, которые можно увидеть в микроскоп или телескоп. Приборы сделали подобные изображения частью повседневной жизни. Учитывая, что разум всегда стремится искать аналогии, новые сравнения малого с большим были неизбежны — и некоторые из них оказывались продуктивными.
Нередко ученые, чье внимание привлекла фрактальная геометрия, ощущали некое эмоциональное сходство между новой математической эстетикой и веяниями в искусстве второй половины XX века, свободно черпая из культуры львиную долю энтузиазма, весьма полезного в исследованиях. Для Мандельброта миниатюрным воплощением евклидовой точности вне пределов математики стала архитектура баухаус. Столь же успешно ее мог бы олицетворять стиль живописи, лучшим образцом которого являются цветные квадраты Джозефа Альберса: скромные, аккуратно-линейные, редукционистско-геометрические. Слово «геометрические» здесь подразумевает то же, что обозначало многие тысячи лет. Здания, называемые геометрическими, имеют простые формы: сочетание прямых линий и окружностей, которые можно описать лишь несколькими числами. Мода на геометрическую архитектуру и живопись приходила и уходила, архитекторы уже не стремились возводить незатейливые небоскребы вроде Сигрем-билдинг в Нью-Йорке, а ведь не так давно это весьма популярное строение широко копировалось. Такую перемену вкусов Мандельброт и его последователи объясняли весьма тривиально: простые формы чужды человеку, не созвучны способу организации природы и образу восприятия мира людьми. Герт Эйленбергер, немецкий физик, занявшийся изучением нелинейности после исследований сверхпроводимости, как-то заметил: «Почему силуэт согнувшегося под напором штормового ветра обнаженного дерева на фоне мрачного зимнего неба воспринимается как прекрасный, а очертания современного многофункционального здания, несмотря на все усилия архитектора, вовсе не кажутся такими? Сдается мне, что ответ, пусть отчасти и умозрительный, диктуется новым взглядом на динамические системы. Наше чувство прекрасного «подпитывается» гармоничным сочетанием упорядоченности и беспорядка, которое можно наблюдать в естественных явлениях: облаках, деревьях, горных цепях или кристаллах снежинок. Все такие контуры суть динамические процессы, застывшие в физических формах, и для них типично сочетание порядка и беспорядка».
Геометрической форме присущ масштаб, характерный для нее размер. По Мандельброту, истинное искусство не имеет определенного масштаба в том смысле, что оно содержит важные элементы разных размеров. Нью-йоркскому Сигрем-билдинг он противопоставлял архитектуру бозар, с ее скульптурами и гаргульями, картушами и карнизами с линией зубчиков. Лучший образчик этого стиля, здание парижской Гранд-опера, имеет не один определенный масштаб, а полный набор масштабов. С какого расстояния ни рассматривай это строение, всегда найдешь детали, привлекающие взгляд; по мере приближения композиция меняется и обнаруживаются новые элементы декора.
Но восхищаться гармоничной архитектурой — одно, а поражаться буйной дикости природы — совсем другое. Говоря на языке эстетики, фрактальная геометрия привнесла в науку по-современному острое и тонкое восприятие неприрученной, дикой природы. Некогда влажные тропические леса, пустыни, поросшие кустарником бесплодные пустоши воплощали собой целину, которую должно покорить общество. Желая насладиться цветением и ростом, люди любовались садами. Как писал Джон Фаулз, имея в виду Англию XVIII века, «эпоха неуправляемой и первобытной природы кажется весьма тяжелым временем и навевает мысли об агрессивной необузданности, отталкивающей и неумолимо напоминающей о грехопадении, изгнании человека из Эдема… И даже естественные науки остались, в сущности, враждебными дикой природе, рассматривая ее как нечто такое, что должно приручить, классифицировать, использовать и эксплуатировать». Но к концу XX века культура стала иной, а вместе с ней изменилась и наука.
Итак, наука все же нашла применение малопонятным и причудливым формам вроде множества Кантора и кривой Коха. Первоначально они проходили в качестве доказательств в бракоразводном процессе на рубеже XIX–XX веков между математикой и физикой, чей альянс доминировал в науке со времен Ньютона. Математики, подобные Кантору и Коху, восхищались собственной самобытностью, они вообразили, что могут перехитрить природу, но на самом деле им не удалось даже близко сравняться с ней. Всеми почитаемое магистральное направление физики также отклонилось в сторону от повседневного опыта. Лишь позже, когда Стив Смейл вернул математику к изучению динамических систем, физик мог уверенно заявить: «Мы должны принести благодарность астрономам и математикам за то, что они передали нам, физикам, поле деятельности в гораздо лучшем состоянии, чем то, в котором мы оставили его семьдесят лет назад».
Невзирая на достижения Смейла и Мандельброта, именно физики в конце концов создали новую науку о хаосе. Мандельброт подарил ей особый язык и множество удивительных изображений природы. Как он сам признавался, его теории описывали лучше, чем объясняли. Он мог составить перечень фрагментов окружающего мира — береговых линий, паутины рек, древесной коры, галактик — и их фрактальных размерностей. Ученые использовали его идеи для составления прогнозов, однако физики стремились к большему — они хотели постичь первопричину. В природе существовали некие формы — невидимые, но внедренные в самую суть движения, и они все еще ждали своего часа.
Подробнее читайте:
Глик, Дж. Хаос. Создание новой науки / Джеймс Глик; пер. с англ. Михаила Нахмансона и Екатерины Барашковой. — Москва: Издательство АСТ: CORPUS, 2021. — 416 с. (Книги Политеха).
Отправьте нам запрос
Поиск на сайте
Наши клиенты и партнеры
Недавние публикации
- Дневник патентоведа Но.319: ТЫСЯЧА ПАТЕНТОВ – ОК! 29 сентября 2025
- Дневник патентоведа Но.318 29 сентября 2025
- Дневник патентоведа Но.317: Пожалуйста поддержите изобретателя! 29 сентября 2025
- Дневник патнтоведа Но.316 29 сентября 2025
- Дневник патентоведа Но.315: Напряженная работа на Optics+ Photonics conference. 29 сентября 2025