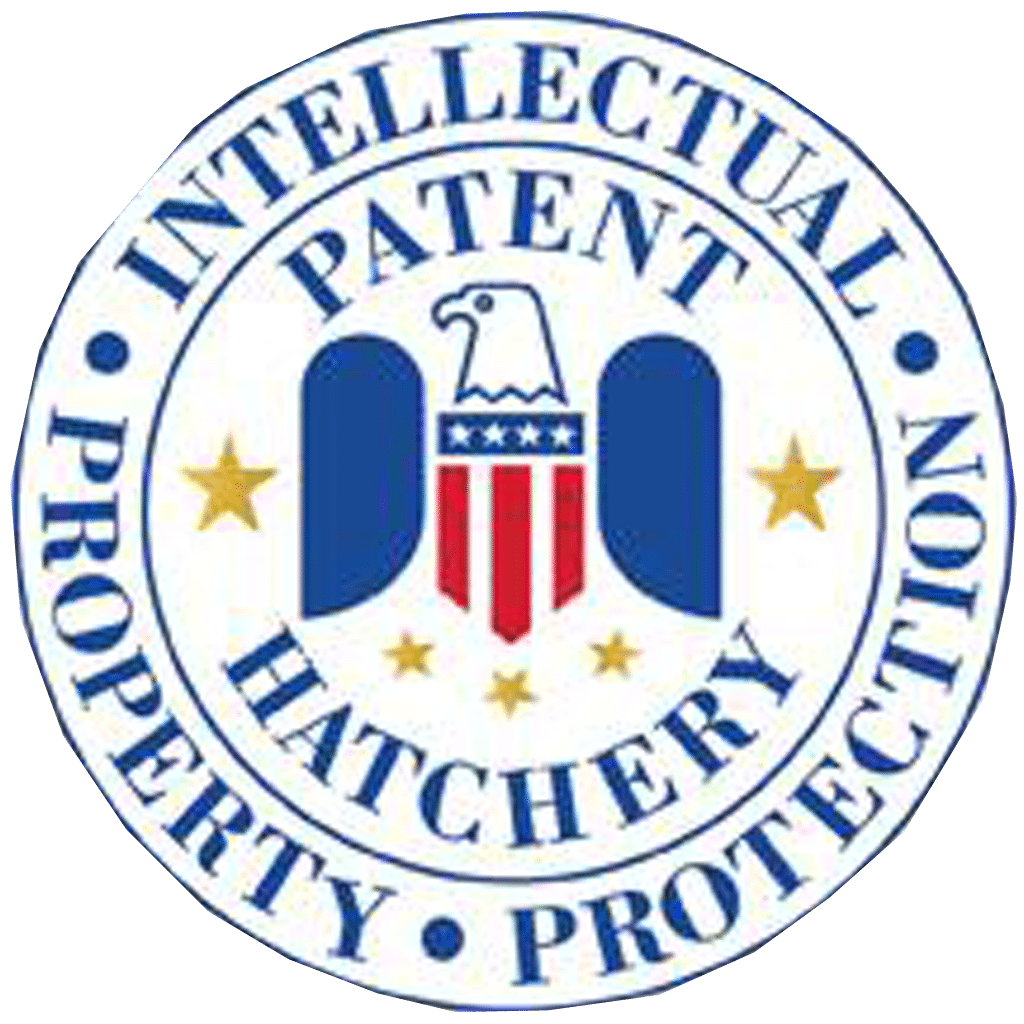Что изучает социальная антропология? Почему противопоставление «природы» и «культуры», считавшееся базовым со времен Клода Леви-Стросса, перестало работать? В каком смысле люди всю жизнь играют самих себя, как человеку в повседневной жизни помогают фантомные объекты и почему с точки зрения животных люди — это тапиры? Эти и другие подобные вопросы затрагивались в недавней лекции Ильи Утехина, декана и профессора факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, подробную расшифровку которой редакция N + 1 предлагает своим читателям.
Говоря о природе человека, необходимо задуматься, какой именно смысл мы вкладываем в слово «природа». Тот ли, как в случае, когда мы, например, говорим «уехал на природу»? В этом значении «природа» — некая местность, среда, не тронутая цивилизацией, противопоставленная ей. Но она не является предметом изучения антропологии, в лучшем случае человек просто живет в тесном контакте с такой природой.
Или, может быть, мы подразумеваем под «природой» некие врожденные, существенные свойства человека, характерные ему как виду? Но и в этом смысле она, в лучшем случае, стала бы предметом изучения физической антропологии. Я же отношу себя к социальным антропологам, и мне хотелось бы объяснить, какова область ведения моей науки.
Начнем мы с того, что жизнь человека протекает не в природе. Среда его обитания — это культура. Собственно, культура тех или иных человеческих групп и является предметом исследования для социального антрополога.
Что русскому хорошо…
Социальный антрополог сегодня — это не кабинетный ученый, в тиши библиотеки листающий полевые заметки других людей и размышляющий о природе человека. Чаще всего он сам полевой исследователь, который пользуется методом включенного наблюдения. Следовательно, он должен научиться глядеть на мир глазами участников изучаемой им группы, принимать их картину мира.
Это, кстати, не всегда бывает просто, учитывая разнообразие культурных практик во всем мире, ведь объектом его наблюдения могут стать, например, каннибалы или охотники за головами.
Но даже если взять что-то менее экзотичное, то окажется, что внешнему наблюдателю из типологически близкого общества, из нашей же европейской цивилизации, какие-то детали нашего быта, обычно нами не замечаемые, видятся абсолютно нелогичными и произвольными.
Приведу пример, взятый с сервиса Quora, где один американец, женившийся на русской, описал свой опыт пребывания у нее на родине, в российской глубинке. Вот одна из замеченных им «странностей» русской культуры, процитирую в своем переводе с большими сокращениями.
«В России надо снимать ботинки, как только входишь в жилище. Здесь, в Америке, я все время про это забываю, так жена на меня ругается. Но как-то ехали мы в России в поезде, в купейном вагоне. И оказалось, что если ты выходишь из купе за кипятком, то ботинки надо надевать. Я-то думал, что если в купе я их уже снял, то я вроде как внутри дома? И вот выхожу я в коридор, дойти до проводницы, — я ведь все еще внутри, не на улицу же пошел, — так нет, жена бежит за мной и вопит по-русски, указывая на мои босые ноги».
Здесь, вообще-то, речь идет о различиях в представлении о чистом и грязном как о символических культурных категориях, которые нельзя перевести в медицинские или гигиенические термины. Как объясняют антропологи, эти категории связаны с представлениями о границах своего и чужого, сакрального и профанного. Как пишет Мэри Дуглас в книге «Чистота и опасность», категория чистоты связана с порядком.
И вот в каждой культуре представления о том, что соответствует порядку, а что нет, разные. Для нас само собой разумеется, что нечто нормальное в помойном ведре под раковиной ненормально в другом месте в доме. А вот для собаки это уже неочевидно, и она стремится залезть в ведро, хоть и знает, что ее за это накажут. Ее к этому толкает инстинкт — для нее это естественно, а вот для нас неприемлемо. Так пролегает граница между человеком и животным.
Я не зря тут вспомнил про собаку. У культурного человека вроде нас с вами есть животная природа и есть что-то человеческое, что поставлено на эту основу — это можно представить себе в виде природного «железа», на которое в ходе социализации устанавливается культурный «софт», набор программ.
Антропологи со времен Клода Леви-Стросса и структуралистов считали это противопоставление природы и культуры базовой, фундаментальной характеристикой любого общества. Но на протяжении последнего десятилетия по этому поводу возникла научная дискуссия. Правда ли, что можно четко разделить «природу» и «культуру»?
Когда мы говорим кому-нибудь «веди себя естественно», мы же не предлагаем ему вести себя как собака. В таком контексте «естественно» означает без выпендрежа, не аффектировано: «веди себя как обычный воспитанный человек». А что значит воспитанный? Воспитанный кем и для чего?
Весь мир — театр
Про естественность и природу человека существует одна любопытная теория, объявляющая театр и театральность (в широком смысле) главным объяснительным принципом человеческой культуры. Пусть она и не строго научная, а, скорее, из области искусства, для нас она представляет определенный интерес.
Эту теорию продвигал в своих довольно остроумных сочинениях известный русский театральный деятель и драматург первой половины XX века Николай Евреинов. Он использовал протосемиотический подход к поведению, и это открыло ему путь к многообразию проблематики выражения, выразительности, иллюзии и обмана, эстетики, стиля, культурных стереотипов.
Для Евреинова театр в узком смысле — со сценой и кулисами, куда приходят зрители — всего лишь концентрированное выражение общей закономерности человеческого бытия. По его мнению, эта закономерность буквально разлита повсюду, но ухватить ее суть не так просто.
Например, его интересовал вопрос правдоподобия на сцене. Тогда в моде был натуралистический театр, а для него важно, как следует представлять жизнь, чтобы она убедительно смотрелась со сцены. Станиславский, готовясь к постановке «Власти тьмы» Льва Толстого в Художественном театре, пробовал включить в сценическое действие настоящих крестьян из Ярославской губернии. Но ничего хорошего из этого не вышло. Как известно, на сцене бутафорский меч выглядит гораздо эффектнее, чем настоящий. Он должен быть преобразован в соответствии с принципами театра. «Правда» в театре убедительнее, гипнотичнее, чем в жизни.
Тогда возникает вопрос: а что такое правда жизни, лишенная театральной трансформации? Можно ли считать, что в жизни есть некоторая правда, в частности, естественность поведения? Мы уже знаем, что она не сводится к чисто животному поведению.
Евреинов открыл для себя, что всякое культурное действие воспроизводит некую поведенческую схему из набора подобных схем, присущих этой культуре. Человек научается поведению. Поэтому поведение ребенка, еще не вполне овладевшего нормами, часто воспринимается взрослыми как кривляние. Ребенок из всего делает игру: вот он встал на четвереньки, залаял и превратился в собаку. Это гораздо проще, чем «не кривляться», ведь когда взрослые говорят ребенку «не кривляйся», они по сути призывают его исполнить очень сложную роль, гораздо более сложную, чем роль собаки. Цитирую Евреинова: «Что такое воспитание, как не педантичное обучение роли светского, сострадательного дельного и хладнокровного человека?»
А если естественность выучена как роль, то вся наша жизнь состоит из исполнения этой и прочих ролей. Каждая минута нашей жизни — театр. Отсюда один шаг до наблюдения: не только индивиды в одном обществе, но и культуры различаются набором и содержанием ролей.
Так, Евреинов замечает: «Не только человек первобытной культуры, но и позднейшей, из всего, из рождения ребенка, из его обучения, из охоты, свадьбы, войны, из суда и наказания, религиозного обряда, похорон устраивает представление театрального характера в силу присущего человеческому духу мании преображения».
Естественно, но не практично
Таким образом, жизнь отнюдь не сводится к действиям сугубо практичным, к некоторому естественному удовлетворению потребностей самым простым и удобным способом. Скорее, наоборот, человек зачастую придает необходимым действиям далеко не самую эффективную, с практической точки зрения, форму.
Власть театральности проявляется в постоянной регламентации нашей жизни, которая вообще не зависит напрямую от узко понимаемой практической пользы. Таковы, в общем, все правила приличия — и капризы моды. Все в них играют. Кстати, эта регламентация касается не только человеческого поведения, но и всей окружающей его предметной сферы. Режиссура жизни диктует стиль любому предмету вокруг.
Возьмите самую практическую вещь — форму крыши дома. Если мы живем в Средней Азии, где солнце палит все время, то лучше иметь плоскую крышу, чтобы заодно на ней урюк сушить. А у нас, на Севере, плоскую крышу снег продавит, поэтому ее делают коньком, чтобы снег сам сваливался.
А вот форма крыши традиционного китайского дома опирается на представление о духах. Они катаются, как с горки, по крыше, и, чтобы они не угодили прямо во двор, надо загнуть края крыши в виде небольшого закругленного трамплина, и тогда духи приземлятся за забором. Тоже весьма практическое соображение. Только не в глазах тех, кто вместо духов видит одно суеверие и фольклор.
В сфере фольклора, мало затрагивающей приспособленность к жизни, вообще безграничные пределы для креатива. Скажем, люди самых разных культур видят на Луне одни и те же пятна, но интерпретируют их совершенно по-разному. При этом выживание всех этих людей ни в коей мере не зависит от того, что именно они видят на Луне.
Было бы просто и очень удобно, если бы вся вариативность человеческих культур как раз и разворачивалась в пределах этих не принципиальных для выживания возможностей. Но проблема в том, что мы не можем четко провести границу и сказать: вот здесь технологии и материальная культура, а здесь символизм и фольклор. Здесь, это где?

Зачем человеку лицо
Или взять одежду. Для чего она нужна, в практическом смысле? Ну, казалось бы — для защиты от холода и дождя. Но Максимилиан Волошин приводит такой анекдот, якобы произошедший с Чарлзом Дарвиным во время его плавания на корабле «Бигль» (на самом деле это бродячий европейский сюжет, еще античных времен).
Итак, «Бигль» на Огненной Земле, Дарвин сошел на берег, от холода в шубу кутается. Вдруг видит туземца, практически голого. И спрашивает: «Разве тебе не холодно, ты же ничем не прикрыт?» А туземец ему: «А вот у тебя лицо не прикрыто, не мерзнет?» — «Нет, я привык». — «Ну так у меня везде лицо» — говорит ему туземец.
И Волошин замечает, что все-таки дело тут не в привычке. Тот же Дарвин, вернувшись в теплое помещение, снимает с себя только шубу, а не всю одежду и не ходит голышом. А если бы снял, то ему было бы не столько холодно, сколько стыдно.
Но Волошин не зря все-таки связал с этим сюжетом именно Дарвина, потому что у Дарвина есть замечательная книжка, которая называется «Выражение эмоций у животных и человека», и одна из ее глав посвящена вопросу о том, в каких ситуациях и как люди разных культур краснеют от наплыва эмоций, такое кросс-культурное исследование. И Дарвин пишет, что люди, все время расхаживающие с голым торсом, всем этим торсом и краснеют, не только лицом.
И Волошин делает вывод, что «лицо» — это культурно-конкретное понятие. Это не просто некая часть тела, которой не холодно на морозе, а такая часть тела, которую не стыдно выставить наружу. То есть у нас это, например, руки и фронтальная часть головы. А в других культурах «лицо» может быть организовано иначе.
В этой связи у Волошина и Евреинова есть интересное обсуждение проблемы наготы на сцене. В свое время в Россию приехала знаменитая танцовщица Асейдора Дункан. Ее выступление сопровождалось скандалом. Не только потому, что Асейдора была дама корпулентная, не похожая на обычных танцовщиц. Она еще танцевала в свободном хитоне, под которым было нагое тело, даже не присыпанное рисовой пудрой, как тогда полагалось. Газеты писали о разврате юношества, но более прогрессивные критики издали сборник под редакцией Евреинова «Нагота на сцене» и объясняли, что нагой и голый — это не одно и то же. Голый — это, скажем, в бане или каком-то эротическом контексте. А нагое тело на сцене не голое, оно как бы заключено в духовный эквивалент одежды, следовательно, его выставлять не стыдно.
И этого Евреинов делает следующий вывод об одежде — ее происхождение связано не с потребностью защитить себя от холода. Прежде всего, одежда удовлетворяет потребность человека в украшении. Одежда выделяет те части тела, на которые ее обладатель хочет обратить внимание окружающих. Даже туземцы, живущие в климате, не требующем никакой защиты от холода, украшают те или иные части своего тела.
Таким образом, одежда изначально служит для украшения, а стыд, удобство и неудобство от того, что у тебя есть шкура, — это уже производные вещи, благодаря им человек просто расширяет спектр своего взаимодействия с природой. Следовательно, на первом месте тут символический аспект поведения, более важный, чем вопросы приспособления к природе. Он не менее важен, чем прагматика, и от прагматики не отделим.
Вызываю дождь, недорого
Вообще человек играет с природой и допускает ходы, которые с точки зрения всезнающего существа были бы лишены смысла. Человек и сам иногда знает, что лишены, но цинично этим пользуется.
Вот мой любимый пример из начала 90-х годов. Тогда вокруг было много кооперативов, и как-то я увидел в газете рекламу кооператива, который оказывал услуги сельскохозяйственным организациям. В частности, вызывал дождь. Причем нигде не говорилось, как он это делает. Просто оплата по результату. То есть мы заключаем договор: если количество осадков окажется, скажем, на 10 процентов больше, чем было в прогнозе Гидрометцентра, то вы переводите нам деньги.
Как вы понимаете, это беспроигрышный бизнес. Во-первых, не надо никаких вложений, кроме рекламы и, может, юридического оформления. Во-вторых, в целом прогнозы погоды у нас, мягко говоря, не идеальны — в половине случаев условия договора будут выполнены, в половине — не выполнены.
Если вы не знаете принципы работы какой-то технологии, то ее результат для вас не отличим от магии. Скажем, искра, созданная трением, — это такой же продукт магии, как вызванный манипуляциями заклинателя дождь.
Я процитирую Макса Вебера: «Только мы, с точки зрения нашего теперешнего понимания природы, могли бы разделить их манипуляции на объективно “правильные” и “неправильные” в отношении причинно-следственных связей и отнести “неправильные” к иррациональным, а соответствующую деятельность — к “колдовству”. Тот же, кто эти действия совершает, разделяет их только по большей или меньшей повседневности».
То есть, условно говоря, хлеб мы режем каждый день, а дождь вызываем каждую неделю. При этом, если ты не знаешь, что вызывает результат, как устроены причинно-следственные связи, тебе проще повторить всю последовательность действий, копируя то, что однажды когда-то дало результат. Поэтому самое важное — не отклоняться, а то «как бы чего не вышло».
Ведьмы вступают в игру
А если нас постигла неудача? Вполне возможно, это — не наша неумелость, а колдовство. У Эдварда Эванса-Причарда есть классическая работа про колдовство у народности занде. Там говорится, что если люди пытаются выманить термитов из термитника, а они не вылезают; если урожай попортила тля; если кто-то заболел или охота не удалась; если жена не проявляет эротической страсти, — то все это ведьмовство. Исключения — те случаи, когда нарушено табу или не соблюдены моральные правила, или кто-то уж совсем неумело делал свое дело.
Получается, для занде (они живут сегодня в Центральноафриканской республике, Демократической республике Конго и в Южном Судане) упомянуть колдовство это примерно как для нас сказать: кто-то грипп подцепил. И хотя мы имеем в виду вирусную инфекцию, для многих из нас она не сильно прозрачнее колдовства.
С точки зрения исследователя, у жизненных неудач есть вполне понятные, вернее, естественные причины. Но тот же Эванс-Причард научился использовать и другую интерпретационную модель, научился глядеть на мир глазами людей народности занде. И для занде в том, что охотника подстерегают ведьмы, нет ничего сверхъестественного. Он к ним почтения не испытывает, он сердится: наверняка среди соседей есть ведьмы, которые завидуют его успехам.
Другой пример: обжигали горшки, один горшок треснул — бывает, хотя горшечник и исполнил все запреты. Он, прежде чем идти за глиной, несколько дней не вступал в половые связи, а горшок все равно треснул. И что прикажете думать, за что? Или: мальчик шел по дорожке и запнулся об пень, повредил палец, и началось нагноение: это же колдовство!
Эванс-Причард говорит ему: «Ведьма не выращивала пня на тропинке, ты сам оказался невнимателен, ведь столько людей там прошли». «Да, — отвечает мальчик, — но я внимательно все время смотрел, чтобы ни на что такое не ступить». Вообще-то они внимательно смотрят, босиком ходят.

Знаки повсюду
У нас в качестве объяснения событий, кроме колдовства и физической причинности, есть еще совпадение, случайность. Потому что наша рациональная исходная посылка состоит в том, что все имеет свои естественные видимые причины, а для невидимых, сверхъестественных причин в нашей картине мира законного места нет. Мы можем не знать всех причин, но когда-то они будут открыты, наука нам все объяснит. Точнее, есть такое место, но сравнительно маргинальное — ходят же люди к гадалкам и магам, пользуются гороскопами, но и гороскопы они понимают как некую науку. Правда, бывают случаи, когда действительно все происходит случайно. Случайности любящему порядок сознанию неприятны.
Первобытный человек и человек традиционной культуры исходят из предпосылки, что причиной всего является невидимая произвольная сила — умысел, а естественная казуальность — это видимость, что ее упоминать-то.
Три женщины идут, чтобы набрать воды, а крокодил хватает ту, что посередине. Вы скажете: то, что это была женщина, оказавшаяся посредине, это чистая случайность, а то, что крокодил схватил женщину, — это естественно, потому что крокодилы иногда нападают на людей.
Но туземец такое объяснение назовет поверхностным и абсурдным, ведь могло же ничего и не случиться. А если случилось, то схватить среднюю из трех женщин было очевидным намерением крокодила, ведь если бы у него не было такого умысла, то он мог бы схватить любую другую. Но откуда у крокодила, они же пугливые животные, такое намерение? В сравнении со множеством крокодилов число убитых ими людей очень невелико. Следовательно, если они нападают на человека, это неожиданно и противоестественно. Необходимо объяснить, откуда этот крокодил получил приказание убить: ведь он же по своей природе обычно этого не делает.
В каком-то смысле это похоже на знакомые нам теории заговора. Вера в колдовство при этом вовсе не противоречит эмпирическим знаниям о причинах и следствиях. Когда говорят, что причиной смерти было колдовство, они не закрывают глаза и на вторичные причины, которые были действительными с нашей точки зрения. Из всей причинно-следственной цепи выбирают то, что социально релевантно. Если человека укусила змея, и он умер, то социально релевантной причиной было колдовство — из-за него змея укусила, хотя пострадавший умер от яда.
Вносить такие дополнительные к естественной каузации интерпретационные слои, читать мир и события вокруг нас как, например, знаки божественного промысла, вполне может и человек нашей культуры. Так видит мир современный христианин, он умеет хорошо об этом рассказывать и свидетельствовать о своем опыте. Он умеет видеть руку Всевышнего во всем, что с ним произошло.
В защиту гомеопатии
Человека современной западной цивилизации может удивить, насколько эффективными оказываются символические средства, которые наша наука отнесла бы к эффекту плацебо или фантомным объектам. Но вообще-то наша цивилизация научна и последовательна только в одной своей части. У Людвига Витгенштейна есть образ в «Философских исследованиях»: центральный район города с новыми кварталами и прямыми улицами, такая идеальная решетка, которой противопоставлена средневековая часть с переулочками и кривыми улицами, как было в Париже до барона Османа.
Наши повседневные понятия иногда систематичны и понятны, прямы как улицы в квартале, а иногда изоморфны сознанию туземца, который верит в колдовство. Так устроен наш здравый смысл — как культурная система. (У Клиффорда Гирца есть эссе под таким названием — «Common Sense as a Cultural System».)
Наряду с доказательной медициной, основанной на двойном слепом тестировании, у нас есть и другая, не менее эффективная во многих случаях. Она особенно востребована в тех случаях, которые доказательная медицина относит к области психосоматики, а таких жалоб много. И недаром арбидол и укрепление иммунитета — это важная часть аптечного бизнеса.
И тут я бы сказал слово в защиту гомеопатии — и не потому, что объяснение ее эффективности, которое дают ее адепты, научно, а потому что экспериментальная эффективность действующего вещества не исчерпывает процессы лечения. Лечение человека — это нечто большее, чем лечение организма или лечение болезни, это сложное культурное действие. И исцеление, и смерть в равной степени могут быть зависимы от психических причин.
В свое время Марсель Мосс написал классическое эссе о случаях смерти, которые наступают внезапно только потому, что человек знает, что он умрет, то есть не будучи больным. И это состояние, как правило, совпадает с разрывом связей — из-за магии или греха — со священными вещами, тех связей, присутствие которых поддерживает жизнь индивида в обществе. Вот человек умирает, нарушив табу, поев запретную пищу — мясо тотемного животного. Мосс пишет об этом на австралийских, новозеландских, полинезийских материалах.
Символические способы лечения и вообще медицинская антропология — очень увлекательная область. В 1920-е годы Уильям Риверс писал о своих наблюдениях за лечением на Соломоновых островах. Местный традиционный врачеватель лечил женщину при помощи массажа живота так, как это делал бы и современный европейский специалист. Расспросы показали, что он лечил ее от хронического запора, то есть практически в соответствии с новейшими достижениями европейской медицины.
Но дальнейшие расспросы выявили цель лечения: массаж был применен для того, чтобы устранить проникшего в ее тело осьминога, который, согласно местным представлениям, был причиной недуга. Если щупальца осьминога дотянутся до головы человека, то больной умрет. И лечение массажем продолжалось несколько дней, осьминог сильно уменьшился, но еще не исчез. И этот результат приписывался не механическим манипуляциям, а формам заклинания, сопровождавшим массаж.
Само по себе лечение массажем было завезено из Полинезии на Соломоновы острова незадолго до этого, но, чтобы объяснить его эффективность, нужно было придумать такую систему, которая бы всем объяснила, почему оно работает. То есть осьминог — это фантомный символический объект. И такие фантомные символические объекты люди себе выдумывают в большом количестве.
Остров накануне
Мой любимый пример касается навигации в традиционных обществах. Так, на Каролинских островах в качестве ориентира используется вспомогательный остров, которого никто и никогда не видит. Вообще в Микронезии и Полинезии люди плавают на тысячи миль, так что берега не видно. У них нет карт и навигационных приборов. Это интересная разница, она подробно описана в нескольких работах в XX веке. Самая известная и интересная книга об этом — «Cognition in the Wild» Эдвина Хатчинса, посвященная социальному распределению когнитивных процессов.
Как обычно поступает навигатор-европеец? Он сначала составляет план, прокладывает курс, а потом движется по этому курсу, и если что-то идет не так, то он пересчитывает маршрут и действует по новому плану. На Каролинских островах люди так не поступают: у них нет никакого плана, они — абсолютные оппортунисты.
Они намечают цель и знают, куда надо приплыть, но основу их ориентирования образует звездное небо, которое кружит, и в нем из одного и того же места всегда восходит, а потом заходит одна и та же звезда. И они знают, что сначала восходит одна звезда, потом вторая: это так называемые линейные созвездия, там шесть или восемь звезд появляются одна за другой.
Представьте себе, что мы в огромном парнике, и дуги этого парника — это вот эти линейные созвездия, цепочки звезд, проходящие в хорошо известном нам порядке по небосклону. Микронезийский навигатор представляет себе, где они, даже когда звезд не видно. Когда ему нужно приплыть на определенный остров, то он заранее знает, в какой момент под какой звездой этот остров находится.
В качестве одной из важных частей этой системы навигации используется остров-ориентир — «этак». Европейцы долгое время не могли понять, что это такое, и думали, что это настоящий остров, типа спасительного убежища: если что-то случится, то он неподалеку, туда можно доплыть и спастись. Оказалось, что все не так, потому что, хотя в ряде случаев этот остров действительно существует, иногда он — просто условная единица, которая нужна для того, чтобы ориентироваться. Мы знаем, что есть такой ориентир, мы знаем, как называется этот остров, и знаем, в каком месте маршрута, под какой звездой он стоит. Но он может существовать только в системе представлений навигатора как условный ориентир, фантомный объект, который позволяет нам проще ориентироваться в реальности.

Люди и их души
В XX веке много исследовали интеллект высших приматов, и пытались обучить животных человеческой коммуникации: например пытались «говорить» с шимпанзе на языке жестов или на языке пластиковых объектов-«токенов». Велись и разговоры о том, что следует признать права шимпанзе. В фильме Барбета Шрёдера про гориллу Коко говорилось, что это настоящая американская горилла и у нее есть своя культура.
Или взять знаменитую шимпанзе Уошо, сравнительно недавно умершую, она дожила до преклонных лет (1965—2007). Американские супруги Алан и Беатрис Гарден, которые с ней экспериментировали в начале ее творческого пути, особо упирали на то обстоятельство, что у Уошо имела место культурная передача жестового языка, что она научила детеныша нескольким жестам.
К этим экспериментам можно по-разному относиться, но энтузиасты склоняют нас к том, что разница между нами и шимпанзе в степени, а не в природе. Эта точка зрения становится все популярней, хотя противоречит доминирующему в европейской культуре тезису о том, что между человеком и животным лежит пропасть.
Вспомним XVIII век и обратимся к Этьену Кондильяку, сформулировавшему нетривиальное утверждение о том, что животные способны к элементарному познанию, идеям и памяти, и разница с человеком в том, что у человека есть язык, который позволяет добраться до высот мысли, а животные, которые не пользуются языком, не способны к абстракции и не могут рассуждать о самих себе. Кондильяк делал вывод, что душа животного и душа человека бесконечно различны, потому что человеческая душа бессмертна.
Европейцы делают акцент на исключительности: человек не просто особенное животное, он подобен Богу, он сотворен по образу и подобию Бога, поэтому он преодолел свою животность. Христианство выводит человека из природы: он не природен так, как растение и животное, а создан в последний день творения, получив право давать животным имена, распоряжаться ими. При этом мир конечен, он как подмостки, на которых разворачивается мир. Когда природа исчезнет, останутся только бог и души.
Животные и их души
Если рассказать это индейцам хиваро, обитающим в Перу и Эквадоре, они сильно удивятся и спросят: откуда вы знаете, что животные не обладают такими же свойствами, как мы? Просто из того, что вы не видите и не понимаете, как они разговаривают? А нравственное начало, вы полагаете, только человеку свойственно? И австралийские аборигены удивились бы. Индейцы Амазонии вообще не представляют природу как противоположный им объект.
Во многих обществах границы между человеческим и нечеловеческим проведены иначе. Там базовая оппозиция природы и культуры не то что не работает, там просто пространство этой деятельности, как его ни назови — общество или культура, не противопоставлено природе. Этот мистический взгляд видит глубже поверхностных различий. Здесь все существа, человеческие и нечеловеческие, заданы одной и той же матрицей. Получается, что выделение человека из мира Природы, противопоставление его миру Природы, характерное для европейской культуры, — достижения недавние и не универсальные.
В последние десятилетия ведется увлекательная дискуссия антропологов. В их числе — Эдуарду Вивейруш ди Кастру и Филипп Дескола, чьи книги переведены на русский. Но я процитирую сейчас Леви-Стросса (Дескола — наследник Леви-Стросса во многих отношениях): «На Больших Антильских островах несколько лет спустя после открытия Америки, в то время как испанцы снаряжали исследовательские комиссии, чтобы установить, есть ли у туземцев душа, сами туземцы обходились тем, что белых узников бросали в воду, чтобы проверить, путем продолжительного наблюдения, подвержены ли их трупы гниению».
То есть европейцы никогда не сомневались, что у индейцев есть тело, как есть оно и у животных. Тело относится к области врожденного и стихийного, вот они и полагали, что индейцы могут быть, например, животными. А индейцы никогда не сомневались, что у европейцев есть души, души есть и у животных, и у призраков мертвых, и много у чего. Но индейцы исходили из того, что европейцы могут быть богами, и хотели проверить, такие же у них тела, как у обычных людей. Таким образом, в мире индейцев души есть у всех существ, даже радикально различающихся телами.
Все зависит от перспективы
Наряду с переосмыслением традиционных терминов «анимизм» и «тотемизм» Вивейруш де Кастру, в частности, в книге «Каннибальские метафизики», предлагает новый термин — «перспективизм». Это такой взгляд, согласно которому видимая форма каждого животного является оболочкой, одеянием, которое скрывает внутреннюю человеческую форму, доступную своим животным духам и шаманам. Общим достоянием человека и животного является человечность, а не животность. Когда-то, во времена мифа, животные тоже были людьми, но с тех пор в глазах людей это утратило очевидность. Это прямая противоположность нашим обыденным представлениям о том, что под всеми культурными напластованиями находится животный фундамент.
Для индейца в обычных условиях люди видят себя людьми, а животных — животными, но если обычно невидимые духи становятся видимы людям, то это указание на то, что условия ненормальны: может быть, это измененное состояние сознания, транс, болезнь. Но вот не-люди — змея, ягуар, луна, разные мифологические существа — видят человека не как человека, а как тапира. Видя нас как не-людей, они самих себя и себе подобных видят, наоборот, как людей: у них есть дома, деревни, свое поведение они воспринимают как культурное, пищу они воспринимают в качестве человеческой.
Ягуары видят в червях, которые копошатся в гнилом мясе, жареную рыбу, в своих телесных атрибутах — мехе, когтях — узнают украшения или культурный инструмент. Хохолок на голове у птицы равнозначен головному украшению из перьев, клюв — копью, когти — ножам. Их социальная система образована по образцу человечьей, у них свои вожди, шаманы, экзогамные половины, свои ритуалы, у них тоже есть охота и рыбалка, ритуалы инициации, брачные правила. Животные — они как бы люди, но вот в таком специфическом обличье.
Такая картина противоречит взгляду европейца, который привык рассматривать самые разные культурные традиции на фоне неизменной Природы. Получается, что у амазонских индейцев есть человечество, которое распространяется далеко за пределы человека как вида. И в этом мире может существовать разный жизненный опыт. Перенос культурных понятий за пределы человеческого общества позволяет переопределить природные события или объекты: то, что мы в качестве людей видим как грязную лужу, тапиры воспринимают как культуру, как большой церемониальный дом. Так что объект заодно указывает и на тот субъект, который его воспринимает.
Представления о том, что не-люди обладают личностями, выходят на первый план в шаманизме: индеец-шаман способен преодолевать телесные границы разных видов и занимать точку зрения разных видов, чтобы уладить отношения между ними и людьми. То есть шаман видит их так, как они видят самих себя — как людей, и может вступить с ними в диалог. При этом он может вернуться и рассказать о своем опыте. Его задача состоит в том, чтобы поддерживать равновесие этой хрупкой системы, и на каждой особи, на каждом охотнике лежит этическая ответственность.
Скажем, охотник вместо духовой трубки получил ружье и, опьяненный своим могуществом, убил больше обезьян, чем ему было нужно. Необходимо скорее восстановить равновесие ритуальными средствами, ведь такие вещи не остаются без последствий. Если жену охотника в тот вечер укусила змея, то охотник прекрасно понимает, от кого ему пришла «ответка»: от его же родственников, по отношению к которым он поступил нехорошо. Для него дичь — его родственники.
Филипп Дескола изучал ачуаров, одну из групп хиваро, и в своей книге «По ту стороны природы и культуры» объяснял, что лес для ачуаров — это сад, который возделывается духом леса, сад — совсем не дикий, а продолжение их дома, это не какое-то пространство, которое надо покорять и которым иногда эстетически восхищаются, как европейцы Природой.
Подготовила Юлия Штутина
Отправьте нам запрос
Поиск на сайте
Наши клиенты и партнеры
Недавние публикации
- Дневник патентоведа Но.319: ТЫСЯЧА ПАТЕНТОВ – ОК! 29 сентября 2025
- Дневник патентоведа Но.318 29 сентября 2025
- Дневник патентоведа Но.317: Пожалуйста поддержите изобретателя! 29 сентября 2025
- Дневник патнтоведа Но.316 29 сентября 2025
- Дневник патентоведа Но.315: Напряженная работа на Optics+ Photonics conference. 29 сентября 2025